
Аляска, Любовь, Сахалин-2
Спите, милые, на шкурах росомаховых.
Он погибнет
в Красноярске
через год.
Она выбросит в пучину мертвый плод,
станет первой сан-францисскою монахиней.
А.Вознесенский
Я отдаю себе отчет, что в эти дни материалы про губернатора в топе материалов СМИ, но жизнь продолжается и есть темы, на которые реагировать краеведу будет не функционально через некоторое время...
Между упомянутыми новостями на Сахкоме промелькнула статья уважаемого мною С.Морозова (прежде всего, потому, что он один из немногих сахалинских журналистов, обращающихся к историческим темам)
http://sakhalin.info/weekly/100370/
Любовь, Аляска, Сахалин
Не скрою, я пытался дать ответ на том же сайте, но закопался в регистрациях. Уверен, что автору моё мнение станет известно. Будет оно интересно, полагаю, и любителям сахалинской истории.Дело в том, что при всем моем уважении к автору, при публикации краеведческих материалов считаю НЕОБХОДИМЫМ ссылаться на источники более менее научные, указывать на наличие иной точки зрения, а если автор описывает свою, то разъяснять на чём она основана.... А к статье ещё и комментарии: "молодец С.Морозов"... Врожденное чувство борьбы за справедливость :0) заставило меня взяться "за перо" . В 2006 году мне посчастливилось поработать на Аляске
https://astv.ru/club/blog/hochu-skazat/RJyvIkHAF0yaGBGEs0KU1w
Поэтому направление "Аляска, Любовь, Сахалин" для меня не просто заголовок. Мне, как сахалинцу, было приятно встретить на земле бывшей Русской Америки людей любящих Россию и Сахалин, ученика нашего тогдашнего владыки Даниила, друзей, действительно уважаемого на Аляске сахалинского историка В.О.Шубина... Поднимал и я на американской земле много тем сахалинской истории.
Уже в наши дни, как известно, Алексей Рыбников и Андрей Вознесенский, "с лёгкостью необыкновенной", преподнесли столичной публике свой вариант мечты Юрия Братова – рок-оперу "ЮНОНА и АВОСЬ". Но это уже совсем другая история...
Кто бы спорил, что "Юнона и Авось" восхитительное САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ . Только за него в истории сохранились бы имена А.Вознесенского, М.Захарова , А.Рыбникова и исполнителей рок-оперы. Лет десять назад я даже писал в Ленком М.Захарову в восхищении постановкой. Но говорить в свете сахалинской истории по ХУДОЖЕСТВЕННОМУ вымыслу, считаю, не дело. По-крайней мере, я КАТЕГОРИЧЕСКИ против. И молодежи следует говорить правду, иначе они перестанут доверять старшим.
Для тех, кто признает только авторитеты, провинциальный краевед, конечно, не указ, поэтому подтяну "крупную артиллерию". Помимо известного и доступного в сахалинских библиотеках Б.П.Полевого
- Полевой Б. П. Первооткрыватели Сахалина. — Южно-Сахалинск: Сах. гос. изд., 1959. 120 с.
- Полевой Б. П. Григорий Шелихов «Колумб росский»: Биографический очерк. — Магадан: Кн. изд-во, 1960. 48 с.
- Полевой Б. П. Первооткрыватели Курильских островов. — Южно-Сахалинск, Дальневосточн. кн. изд-во, Сах. отд-ние, 1982. 208 с.
Лично мне посчастливилось на Аляске познакомиться с Лидией Сергеевной Блэк

БЛЭК [урождённая Тевяшова] Лидия Сергеевна (1925, Киев-2007,Анкоридж)
Исследователь Русской Америки.
Во время войны попала в Германию и в конце войны оказалась в зоне, оккупированной западными союзниками.
В 1950 переселилась в США. В 1987 была председателем Второй Международной конференции, посвященной Русской Америке. Организатор конференции «Жизнь отца Иоанна Вениаминова на Аляске и в Сибири и его вклад в этнографическое исследование Арктики». Выступала с многочисленными лекциями по истории русского православия в учебных заведениях США и Европы. Автор книг и монографий на русском и английском языках. По указу президента России Владимира Путина от 23 декабря 2000 Л.С. Блэк за свой вклад в изучение Русской Америки награждена орденом Дружбы Народов. Подарила она мне и труд своей жизни книгу "Русские на Аляске 1732-1867". Мы много беседовали в её небольшом домике на о.Кадьяк и вот её точка зрения на Резанова Николая описываемого С.Морозовым "сахалинским героем" Прошу отметить, что описание это отредактированное для журнала "Вокруг света"№2,2004. В беседе Лидия Сергеевна была ещё категоричнее и вещи называла своими именами.

Лидия Сергеевна БЛЭК, профессор, историк и этнограф, один из крупнейших специалистов по истории русско-американских связей XVIII —XIX веков.
В отечественной историографии за Резановым утвердилась репутация серьезного государственного деятеля, едва ли не подвижника, положившего немало сил ради расширения государства и развития Российско-американской компании. Однако если подходить к анализу документов объективно, то окажется, что все это миф. Много лет занимаясь историей Русской Америки, исследуя реальную деятельность Резанова в Новом Свете, просматривая многочисленные материалы, связанные с его личностью, в том числе и документы, имеющие отношение к первому кругосветному плаванию, я пришла к выводу, что это был крайне неоднозначный, нечистый на руку, очень тщеславный человек. Полагаю, что и дневники Ратманова служат подтверждением этой характеристики.
Справка: Ратманова, мыс о. Сахалин. Смирныховский район.

Назван в честь одного из участников первой русской кругосветной экспедиции под руководством И.Ф.Крузенштерна Ратманова Макара Ивановича (1772-1833).Он мог бы стать героем сахалинской истории.
Резанов никогда не был ни учредителем, ни директором РАК, он являлся одним из членов правления компании, получив эту должность, как зять Г.И. Шелихова. В славянском отделе Нью-Йоркской публичной библиотеки хранится письмо Резанова одному из своих друзей, из которого видно, что еще во время правления Екатерины II Резанов был послан в качестве ревизора в Иркутск для проверки компании Шелихова. В этом письме Резанов похваляется своей удачливостью — он обставил все дела так, что обзавелся молодой женой и акциями компании, которую должен был проверять. После смерти Шелихова Резанов стал крупнейшим акционером его компании, которая затем была преобразована в РАК. И по большому счету в кругосветной экспедиции он был назначенцем компании. Титул камергера ему был присвоен лишь накануне выхода кораблей в море, дабы поднять статус японского посольства. Ратманов описывает размещение на «Надежде» колоссальной свиты Резанова. Надо сказать, что Крузенштерн был крайне недоволен тем, что из-за ее многочисленности пришлось снять с корабля нужных для дела людей. В частности, экспедиция лишилась профессионального художника, и все дошедшие до нас зарисовки — это в основном любительские работы натуралистов, участвовавших в плавании.
Справка: Крузенштерн Иван Федорович (1770-1846)
- 6 ноября 1873 года[6] в Санкт-Петербурге, напротив морского корпуса, был открыт памятник Крузенштерну, сооружённый по проекту скульптора И. Н. Шредера и архитектора И. А. Монигетти. Монумент устанавливался на частные средства, но небольшое пособие удалось получить и от государства.
- Крузенштерн (барк)
- Пролив Крузенштерна
- Риф Крузенштерна
Гора Крузенштерна расположена в Корсаковском районе Сахалинской области в юго-восточной части острова Сахалин.
О степени порядочности Резанова можно судить уже хотя бы по тому, что доверенные ему перед отправкой экспедиции казенные деньги, предназначенные для православной миссии в Русской Америке, бесследно исчезли. Судебное дело по возмещению растраченных средств длилось до 1820-х годов. Кроме того, на «Неве» находился посланный Синодом с инспекцией на Кадьяк и Камчатку иеромонах Гедеон. Жалованье, предназначавшееся Гедеону, было также доверено Резанову. Так вот, из этих денег Гедеон не получил ни копейки.
По моему мнению, вклад Резанова в достижения экспедиции ограничивается провалом единственного серьезного порученного ему дела — японского посольства. И тут я совершенно согласна с оценками Ратманова — именно Резанов своей неуклюжей дипломатией разрушил ту основу, которая была заложена экспедицией Лаксмана. Резанов даже не пытался понять японцев. Он сразу занял позу большого вельможи, которому эти ничтожные люди не так кланяются и не так целуют ручку. Результат его деятельности известен. Этого ему, однако, показалось мало, и, прибыв в Америку, Резанов снарядил ставшие впоследствии знаменитыми корабли «Юнона» и «Авось» и приказал их капитанам, состоящим на службе РАК — Хвостову и Давыдову, — совершать набеги на японские поселения. Это не домыслы — существует письменный секретный приказ Резанова. Экипажи этих кораблей действительно принимали участие в грабежах и убийствах. Резанов не имел никакого права отдавать подобные распоряжения, но Хвостов и Давыдов были очень молоды, а перед ними красовался царский сановник, который произносил пламенные речи о том, какую пользу они принесут России. Когда же за свои пиратские набеги офицеры угодили под суд, Резанов остался в стороне. Расхлебывать заваренную им кашу пришлось другим — достаточно вспомнить только пленение В.М. Головнина, которого японцы приняли за Резанова и который почти 2 года просидел в железной клетке.

Знаменитый вояж Резанова в Новый Свет не имеет прямого отношения к истории экспедиции, но дает полное представление о том, с каким человеком пришлось иметь дело Крузенштерну. Резанов оставил правителю Русской Америки А.А. Баранову такие указания по усовершенствованию края, которые даже при наличии самой современной техники на Аляске выполнить было невозможно. Его письма из Калифорнии Н.П. Румянцеву полны «маниловских» проектов — Резанов обещал присоединить к американским владениям России едва ли не всю Мексику, что было совершенным абсурдом. Румянцев, кстати, очень скоро понял, что Резанов — абсолютно никчемный человек, и перестал его поддерживать.
Что же касается великой любви между русским камергером и дочерью испанского коменданта Кончиттой, о которой столько сказано и написано, для Резанова она являлась лишь «следствием энтузиазма и новой жертвой Отечеству». «Энтузиаст» Резанов в одном из писем рассказывал также, что содержит в Новоархангельске 12-летнюю тлинкитскую девочку. ("содержит" в те времена приравнивалось к скандально известной статье УК РФ- Г.С.)
В своих письмах с Кадьяка к государю он беззастенчиво приписывал себе чужие заслуги — открытие на острове школы и развитие огородничества. Все это было сделано задолго до Резанова трудами миссионеров Русской Православной церкви.
Поэтому я не вижу ничего удивительного в том, что Резанов, как это ясно из дневников Ратманова, оказался вне экспедиции и что между ним и практически всем экипажем «Надежды» установились неприязненные отношения. Не жаловали его и ученые — Г.И. Лангсдорф, натуралист, участвовавший в экспедиции, после долгих колебаний отправился вместе с Резановым в Америку. Но и он рассорился с камергером, вернулся в Петербург и, написав книгу об экспедиции, посвятил ее Крузенштерну.
Кто-то может возразить, что Л.С.Блэк (ныне покойная)представитель иностранного государства и необъективна к "герою". Пожалуйста действующий ученый исследователь из России:
Леонид Михайлович СВЕРДЛОВ, член ученого совета Московского центра Русского географического общества, член бюро отделения исторической географии и истории географических открытий.

В истории первой русской кругосветной экспедиции существует ряд вопросов, на которые мы до сих пор не можем получить ответа. И едва ли не главным из них является вопрос о назначении Резанова. Почему Александр I подписал рескрипт, дающий Резанову право возглавить экспедицию? Ведь император был весьма неглупым человеком, он не подписывал документы не глядя и прекрасно понимал, что Резанов не может быть начальником морской экспедиции, не мог не понимать он и того, чем грозит подобное двуначалие всему предприятию. Любопытно, что в этом же рескрипте Крузенштерн упоминается еще пять раз, и везде как равное с Резановым лицо. Полномочия же Резанова Александр I так никогда больше и не подтвердил. Думаю, что решение государя было не случайным. Перед началом экспедиции практически все высокие покровители Резанова — Державин, Зубов, Пален — были удалены от двора и отрешены от занимаемых государственных постов. Полагаю, что Александр просто выслал Резанова под таким благовидным предлогом. Этому имеется косвенное подтверждение — известен рескрипт Александра о награждении Резанова бриллиантовой табакеркой и зачислении его сына в пажи, однако в пажеский корпус он принят не был, так как дважды не явился на представление императору — бабушка (мать Резанова] не сочла нужным воспользоваться царской милостью и внука в корпус не отдала, что являлось неуважением к государю.
Дневник Ратманова еще раз подтверждает, что по прибытии на «Надежду» Резанов официально о своих полномочиях не сообщил, а сделал это под сильнейшим нажимом лишь 10 месяцев спустя. Впоследствии Резанов утверждал, что все-таки сразу заявил о своем верховенстве в экспедиции, но утверждения эти все время будут звучать по-разному. Так, в одном из писем императору он писал, что, придя на корабль, Крузенштерну он представился, потом, обращаясь к Кошелеву, заявил, что передал Крузенштерну свои бумаги. А потом еще в одном послании государю относительно своей инструкции писал: «...не было мне нужды читать ее торжественно, ибо весь свет о ней известен был и я, сохраняя чиноначалие, хотел показать им не кичливость, а истинный предмет моего подвига».
Итак, официально Резанов не представился, да и не мог этого сделать. В противном случае, никто из офицеров под начальством Резанова в плавание не пошел, и экспедиция не состоялась бы. Именно поэтому он и не проронил о своей инструкции ни слова, пока корабли не покинули Европу — то есть до тех пор, пока у Крузенштерна была реальная возможность прервать экспедицию и запросить подтверждение из Петербурга. Резанов, как это видно из дневника Ратманова, знакомил офицеров с царской инструкцией в приватных беседах. Почему? Дело в том, что еще во время плавания к Бразилии у Резанова появился «блестящий» план — оставить «Надежду» в Русской Америке, в распоряжении РАК и правителя колонии А.А. Баранова. Но «Надежда» была взята Александром I «на казну», и на осуществление этого коммерческого проекта требовалось личное согласие государя. С соответствующей просьбой Резанов обратился из Бразилии в Правление РАК, обосновывая выгоды своего плана и предлагая по прибытии на Камчатку списать на берег всех офицеров «Надежды», оставив на борту лишь двоих — для плавания в Америку. Его не смущало ни то, что таким образом ставится крест на кругосветной экспедиции, ни то, что морякам он уготовил бесславное возвращение домой посуху, ни то, что матросы, добровольно отправившиеся вслед по зову Крузенштерна в плавание, обещавшее им вольную и денежное вознаграждение, попадали в кабалу к РАК. При этом Резанову был совершенно необходим моряк, способный управлять кораблем после смещения Крузенштерна и друг их офицеров «Надежды». И Резанов начал поиски подходящей кандидатуры, рассказывая в частных разговорах с моряками о своих инструкциях и демонстрируя царский рескрипт. Первым он успел подобным образом переговорить с Ратмановым, предложив в обмен на лояльность выгодный контракт с РАК, но получил отказ. Таким образом, в качестве «преемника» Крузенштерна возникала фигура лейтенанта Головачева — единственного офицера, симпатизировавшего Резанову. Однако, чтобы план камергера удался, требовалось дискредитировать офицеров «Надежды», особенно тех, кто был старше Головачева по должности - Крузенштерна, Ратманова, Ромберга, поскольку преемственность должности в те времена соблюдалась строго, а Головачев на «Надежде» был только вторым лейтенантом. Во многом именно этим и объясняется столь острый конфликт Крузенштерна и Резанова, зачастую прямо провоцируемый камергером, пытавшимся получить «компромат» на офицеров флота. Увы, надо признать, что и поведение моряков не всегда было достойным — они нередко поддавались на провокации Резанова, и хамство и оскорбления в его адрес замалчивать не стоит.
Во всей этой истории также весьма туманными остаются взаимоотношения Резанова и Головачева и причины самоубийства последнего. Ясно, что Головачев был необходим камергеру, но вот чем Головачева привлек Резанов? Изучая документы, убеждаешься, что Головачев проникся к Резанову каким-то необъяснимым почтением, уважением, рассматривал его как духовного наставника. Возможно, отец Головачева и его дядя, помещики Олонецкой губернии, были хорошо знакомы с покровителем Резанова Г.Р. Державиным, который в 1794 году занимал пост генерал-губернатора Олонецкого края. Не исключено также, что Головачев был на грани разорения, и Резанов, предложив ему деньги и контракт с РАК, стал для него последней надеждой, о которой он сообщил родным, а когда планы Резанова рухнули, то для Головачева пути домой уже не было, где у него остались брат и две сестры. Но все это пока только догадки. После смерти Головачева остались его письма, но найти их в архивах не удалось. Имелось письмо и на имя Александра I, вне всякого сомнения, оно было передано государю, но поиски и этого документа оказались тщетны. В любом случае версия самоубийства Головачева, выдвинутая Ратмановым, мне кажется несостоятельной — Головачев уже участвовал в войне с Францией в составе эскадры Ушакова, и вряд ли известие о новой войне могло взволновать его столь сильно.
Не согласен я и с оценками Ратманова деятельности Резанова в Японии. Эта страна проводила жесткую политику самоизоляции, и вряд ли кому-то на месте Резанова удалось бы достичь успеха. Все же остальные действия в отношении Японии, в которых принимали участие корабли «Юнона» и «Авось», целиком на совести Резанова — данные ему инструкции прямо запрещали применять насилие к японцам. И то, что по его милости Хвостов и Давыдов угодили под суд, а он остался ни при чем, характеризует Резанова самым негативным образом. В отношении действий Резанова многое и вправду объясняется характерным для него поразительным тщеславием. Например, сохранился весьма красноречивый документ — рапорт Крузенштерна Резанову по прибытии в Нагасаки:
«Его превосходительству, господину генерал-майору, двора его императорского величества действительному камергеру, чрезвычайному министру в Японию, полномочному послу и разных орденов кавалеру Николаю Петровичу Резанову.
Рапорт. Сего числа с вверенным мне кораблем на Нагасакский рейд пришли и стали на якорь благополучно, о чем вашему превосходительству честь имею донести. Крузенштерн».
То есть длинное перечисление званий Резанова, а потом — одна строчка, не содержащая никакой информации, — то, что камергер мог увидеть, выйдя на палубу. И такие рапорты Резанов хотел получать каждый день. Что же до споров о том, кто руководил первой русской кругосветной экспедицией, то в рескрипте от 10 августа 1806 года, подписанном Александром I, о награждении Крузенштерна орденом Святого Владимира сказано: «Совершив с вожделенным успехом путешествие кругом света, вы тем самым оправдали справедливое о вас мнение, в каком с воли нашей было вам вверено главное руководство сей экспедиции». Полагаю, на этом можно поставить точку.* Алексей Постников, проф,акад,РАЕН,Дмитрий Иванов, "Одна "Надежда" на двоих",Вокруг света, №2,С.120-133
Кончита
Всё ли в этом предприятии, где действуют герои сахалинской истории не достойно восхищения? Нет, есть много достойного восхищения и обожания! Настоящий герой России и Аляски, по версии Лидии Блэк, Лисянский Юрий Фёдорович (1773—1837), оказавшийся в тени Крузенштерна И.Ф., обойденный наградами и чинами. А ведь именно он (а не Крузенштерн) спас Русскую Америку и разгромил воинственных индей цев...
А Кончита…Донна Мария дела Консепсьон Марселла Аргуэльо (Maria dela Concepcion Marcella Arguello) родилась 10 февраля 1791 года в семье коменданта президио (крепости) Сан-Франциско Хосе Дарио Аргуэльо (Jose Dario Arguello) и донны Марии Игнасии Мораги де Аргуэльо (Maria Ignatia Moraga de Arguello). «…Она читала испанские романы и,как все девушки ее возраста во всем мире, грезила несбыточными мечтами о сказочном принце. Но откуда взяться было этому принцу в далекой Калифорнии, да еще в затерянном на отдаленном побеоежье президио…И вдруг ее детские грезы стали явью…»
Резанов пообещал Кончите вернуться через два года, когда будет получено разрешение Папы и российского Императора. Но не суждено ей было больше встретиться со своей любовью. В дороге здоровье русского посланника сильно надорвалось и он скончался по пути в Петербург в марте 1807 года.
Во второй половине 1808 г. А.А.Баранов дважды извещал отца и брата Кончи о смерти Резанова. Были и другие сообщения, которым, по словам Луиса д‘Аргуэлло, сестра не хотела верить. Во всяком случае, предполагаемый вымысел и реальный факт сошлись в одной точке только в начале 1842 г., когда "известный английский путешественник, бывший директор английской Гудзоновой компании, сэр Джордж Симпсон" сообщил Кончите неопровержимые сведения о конце Николая Петровича (Симпсон побывал в Красноярске на могиле Резанова).
После известия о смерти Резанова, донна Консепсьон посвятила себя благотворительности и обучению индейцев. В Новой Калифорнии ее называли La Beata (Благословенная).
В начале 1840-х годов донна Консепсьон поступила в третий Орден Белого Духовенства. После основания в 1851 году конвента (монастыря) Св. Доминика она приняла монашеский сан под именем Мария Доминга. Вместе с монастырем она переехала в Беницию, где и встретила свою смерть 23 декабря 1857 года.
Ее тело было захоронено на кладбище монастыря, а в 1897 году перенесено на специальное кладбище Ордена Святого Доминика.
"Консепсион оказалась не только внешне прекрасной, своевольной и страстной женщиной. Она оказалась сильной духом, способной вынести все с гордо поднятой головой и без жалоб и компромиссов прийти к своему горькому концу", - так напишет о первой красавице Калифорнии Гектор Шевиньи в романе "Утраченная империя".
"Так трагически окончившийся короткий роман её,– писал в начале Второй мировой войны русский эмигрант, писатель Н.Н.Сергиевский,– стал широко известен в обоих Калифорниях (русской и испанской до 1867 ), а впоследствии и во всей Америке, и имя её, окружённое романтической дымкой, стало символом той идеальной любви, о которой псалмопевец сказал, что водам многим не залить её и рекам её не потопить. И долго ещё потом в Америке, вплоть до начала этого века, излюбленным номером во всяких народных зрелищах была живая картина, изображавшая молодую красавицу-испанку, облокотившуюся о пушку у форта Сан-Франциско с глазами, устремлёнными в сторону океана, в тщетном ожидании своего русского жениха".
15-летняя Кончита расплатилась за свое короткое счастье жизнью, превратив ее в бесконечное ожидание возлюбленного. Она умерла, так и не узнав, что любовь русского камергера была, по его же признанию друзьям, «жертвой Отечеству» и равнялась... стоимости проекта торгового договора с отцом Кончиты - доном Хосе Дарио Аргуэлло, и груза продовольствия - 2156 пудов пшеницы, 351 пуд ячменя и 560 пудов бобовых. С ним бриг «Юнона» и тендер «Авось» отбыли из Сан-Франциско на Аляску, где в колониях Русской Америки тогда, в 1806-м, свирепствовали голод и цинга.

«Портрет Кончиты» кисти американского художника русского происхождения Анатолия Соколова и актриса Елена Шанина, исполнительница роли Кончиты в первой постановке спектакля «Юнона и Авось»
Говорят, идеала Женщины нет. В преддверии Женского праздника, я ответственно заявляю- ЕСТЬ! И не один идеал. Для меня воплощением Женского совершенства служат земные женщины Кончита и Анна Васильевна Тимирёва (1893—1975). С праздником Вас наши Восхитительные!!!


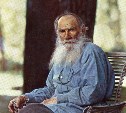







Но затея не удалась-
И за попытку- спасибо"...
Молодца, Григорий Николаевич!
Развенчали покойника по полной!
Будем ждать дальнейшей исторической справедливости - о том, например, что Лиснянский купил в Англии абсолютно старые суда, по поводу чего британские моряки немало смеялись, или о том, что он плюнув на распоряжения непосредственного начальника (Крузернштерна) бросился в Петербург, чтобы взять славу первого российского кругосветника (прибыл на месяц ранее, нежели "Надежда").
Вы что, серьезно думаете, что я не поднимал биографий тех же Атласова, Козыревского, Анциферова, Москвина, Хабарова, Пояркова (которым потом пугали все детей Амура - и правильно делали)?
Видите ли, ураинская история показала - настолько важна История в той или иной ее интерпретации.
ВЫ, профессионалы - сделать этого не смогли (не нашли площадку).
Приходиться браться дилетантам )))